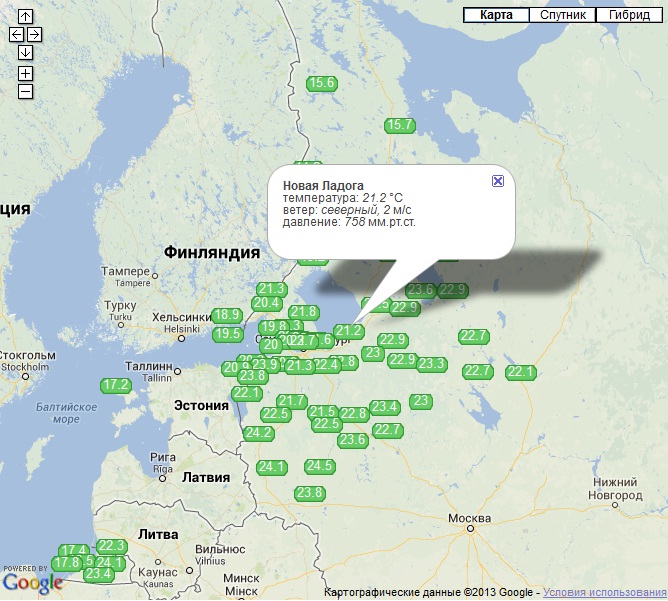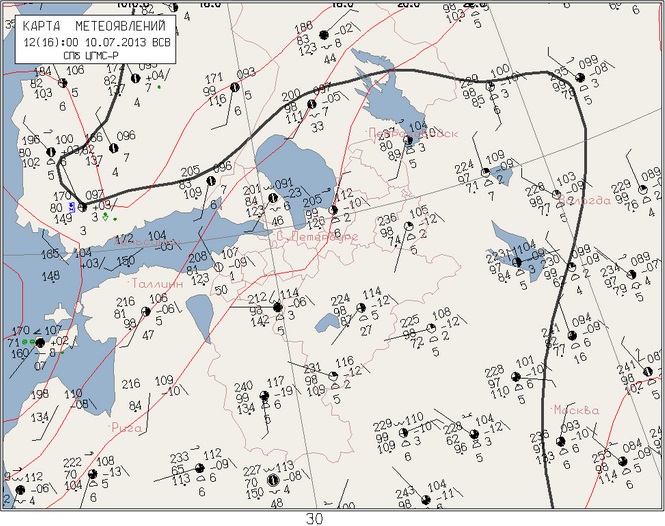Петербургский климат - в поэзии о Петербурге
Окутанный мифами и легендами с момента основания, Петербург оставил след почти во всех произведениях не только живших, но и мимолётно бывавших здесь поэтов. А переменчивая и капризная петербургская погода, как в зеркале, отразилась в поэтических строках во всех своих разнообразных проявлениях. Ни белёсые северные пейзажи, ни строгий и слегка надменный вид архитектурных ансамблей не бытуют так часто в стихах петербургских поэтов, как пронизывающие северные ветра, хлопья тумана над неспокойной Невой и тяжёлое от низких серых туч небо.
Первое, на что обращаешь внимание: петербургская погода – зачастую не просто фон, на котором разворачивается сюжет поэтического повествования, это – отдельный, яркий и неповторимый, его персонаж. Но, удивительное дело, даже беглый взгляд позволяет заметить, что со временем персонаж по имени петербургская погода претерпевает значительные изменения. И эти изменения гораздо большие, чем изменения фактической погоды, его породившей.
Отношение жителей к «прелестям» петербургской погоды, прослеживающееся в поэзии XIX века, укладывается в довольно узкий диапазон. Красками лишь холодных тонов рисуется облик города, полускрытого в тумане, пригнутого к вечно мокрой земле дождём и ветром. Примеров – множество, остановимся пока на двух.
И вот опять ползут косматые туманыИз северных болот и сумрачных лесов,Покинув нехотя просторные поляныДля тесной суеты шумливых городов…Худые, бледные, измученные лицаПовсюду предо мной мелькают; из-за нихГлядит в мои глаза туманная столицаЗрачками мутными несчастных глаз своих…
И думается мне: весь город этот шумныйВнезапно заболел, и бред его больнойСливается с моей тоскою многодумной,Звучит во мне самом и гонится за мной…
Это стихи Аполлона Коринфского, написанные в 1891 году. А это немногим ранее, в 1859 году, писал Николай Некрасов.
Начинается день безобразный –Мутный, ветреный, тёмный и грязный.Ах, ещё бы на мир нам с улыбкой смотреть!Мы глядим на него через тусклую сеть,Что как слёзы струится по окнам домовОт туманов сырых, от дождей и снегов!Злость берёт, сокрушает хандра,Так и просятся слезы из глаз...Безрадостная картина воздействия нашего сырого, ветреного климата на тонкую чувствительную душу. Эпитеты не слишком разнообразны: бедный, больной, мутный, тусклый, холодный, туманный и другие, но из того же ряда. Вы думаете, что я тенденциозно выбрала приведённые цитаты? Ничуть. Уверяю вас, что в девяти из десяти случаев петербургская погода - персонаж скорее отрицательный, чем положительный. Переплетаются душевные печаль и хандра с унылой питерской погодой, сливаются в тесных объятиях, и рождаются такие строки:
В дымном городе душно,Тесно слуху и взору,В нём убили мы скучноЖизни лучшую пору.В небе - пыль либо тучи,Либо жар, либо громы;Тесно сжатые в кучи,Кверху кинулись домы;Есть там смех, да не радость,Всё блестит, но бездушно…Слушай, бледная младость,В дымном городе душно!1828 г. Николай Коншин.
Не хочется множить примеры, чтобы подтвердить высказанное мною наблюдение. Тем более, что большой проницательности для такого наблюдения и не требуется. Просто и убедительно сказано в стихотворении Николая Огарёва (1840 год):
Вы согласитесь, что плохой Приём мне сделала погода;Я если б не страдал хандрой,Её туманная природаНа ум навеяла бы мой…Здесь говорят, что середь годаВыходит солнце только раз…Блеснёт и спрячется тотчас.Я думал: житель здешних странБыть должен мрачен, даже злобен,Всегда недуг сердечных ранВ себе самом таить способен,Угрюм, задумчив, как туман,Во всём стране своей подобен,И даже песнь его должнаБыть однозвучна и грустна.
Настроения ли, превалировавшие в обществе, определяли тот угол зрения, под которым в столь неприглядном свете виделась питерская погода, или, наоборот, климат туманной столицы настолько не совместим с комфортным самоощущением человека, что рождал в душах настроение упадка и уныния? Наивным и упрощённым было бы настаивать на неоспоримости второй половины этого риторического вопроса. Мне кажется, это интересная тема, которая ждёт своего исследования, обстоятельного и глубокого, только вот кто займётся ею: филологи? метеорологи? психологи?
Пока же констатируем факт: только одна сторона петербургского климата – «тёмная» – находит своё отражение в поэзии XIX века. Вряд ли возможно отмахнуться от этого факта: уж слишком настойчиво звучит (и звучит, как я уже упоминала, у очень разных поэтов) тоскливый стон по солнцу, которое «…показываясь в мае, Скрывается опять до лета в сентябре…». Поэтическое преувеличение Николая Некрасова?
Попытаемся разобраться.
Специалисты определяют климат Петербурга как «близкий к морскому, с умеренно тёплой зимой и нежарким летом». Частое поступление с запада в наши районы воздушных масс атлантического происхождения объясняет продолжительные оттепели зимой и нередко прохладную и дождливую погоду летом. Этим же объясняется и такая характерная особенность не слишком комфортного питерского климата, как повышенная влажность, которая в среднем за год составляет почти 80%. За этой сухой цифрой скрываются хмарь, дожди и туманы – очень частые гости на наших берегах. Не перегружая цифрами это маленькое исследование, остановлюсь лишь ещё на одном из климатических показателей, таком как число дней без солнца. Так вот, в среднем в Петербурге бывает 20 дней без солнца в ноябре, 26 – в декабре, 24 – в январе. А если вспомнить, что продолжительность самого короткого дня в году – 22 декабря – всего 5 часов 51 минута? А если, вернувшись в век XIX, представить себе Невский проспект без электрических фонарей, блеска огромных реклам, ярко освещённых окон? Но к окнам мы ещё вернёмся…
Так что же, выходит, нет преувеличения в строках Некрасова? В Петербурге можно лишь «заживо гнить», а не жить? Но не будем торопиться.
Уже в начале XX века в поэтическом образе петербургского климата появляются новые черты, свежие краски тёплых тонов брошены на палитру. Тянущийся издавна стон:
«Небо – вечно в тумане,Почва – вечно в мокроте:Как в поганой лохани,На поганом болоте!»,вырвавшийся из груди Василия Князева в 1914 году, уже не типичен для общей тональности петербургской поэзии «серебряного века». Ближе к ней строки Владимира Княжнина, писавшего в том же 1914 году:
День золотой, благоуханныйВ начале мая, Летний сад,Голубоватый и туманный,За сенью Фельтенских оград.Образ Северной Пальмиры, со всеми присущими ему климатическими особенностями, продолжает оставаться неотъемлемой чертой петербургской поэзии. Николай Гумилёв, Георгий Иванов, Осип Мандельштам, Анна Ахматова…Не знаю, был ли поэт, сумевший остаться настолько «вне», что не положил ни одного мазка на своеобразный «коллективный портрет» нашего колдовского города. Однако, климат не претерпел на рубеже веков столь резких изменений, как цветовая палитра художников, его рисующих.
Весёлый ветер гонит лёд,А ночь весенняя - бледна,Всю ночь стоять бы напролётУ растворённого окна.Это Николай Гумилёв. 1919 год.
«И хмурый Петроград с туманом и дождёмНапоминает мне своей немой печальюКрасавицу с заплаканным лицомПод белой, трепетной, задумчивой вуалью…»А это Николай Агнивцев. 1915 год.
Собственно, город-то по-прежнему «вечно в тумане», но ассоциации у автора вызывает совсем другие, нежели прежде. Согласитесь, между «поганым болотом», которое Питер напоминает Василию Князеву, и «печальной красавицей», которая видится Николаю Агнивцеву за туманными очертаниями города, есть разница. Пример не единичный, перемена «угла зрения» очевидна.
Сравнивая отношение к петербургскому климату, выразившееся в стихах поэтов XIX и XX веков, поневоле удивляешься такой перемене. Можно было бы и не обратить внимания на столь незначительный факт, но под рукой конкретные цифры, позволяющие утверждать, что изменения климата, произошедшие за сто с лишним лет, не так значительны. Климат отнюдь не меняется так стремительно, и практически все неприятные черты, свойственные петербургской погоде и отмечавшиеся в XIX веке, так или иначе проявлялись и в веке XX. В какой же области искать причины, определяющие «переоценку ценностей»? Пришло время вспомнить про окна, до поры до времени оставленные. Ярко освещённые окна в данном случае выступают как символ научно-технического прогресса, активно вторгшегося в мерное течение жизни именно на рубеже веков. В этой новой жизни достижения “научно-технической революции”, увеличивая степень комфортности, видимо, всё же помогают сгладить негативное влияние неблагоприятных условий погоды не только на организм, но в значительной степени и на состояние души.
И тогда даже в дни ненастья, когда одолевает хандра, и душа измучилась в отсутствии солнца, могут рождаться замечательные строки, полные восторга и преклонения:
И – майской ночью в белом дыме,И – в завываньи зимних пург –Ты – всех прекрасней, - несравнимыйБлистательный Санкт-Петербург.Николай Агнивцев. 1919 год.



 Вход
Вход